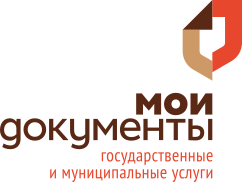Как получить сведения реестра недвижимости разъяснили в Кадастровой палате
7 сентября в Кадастровой палате по Челябинской области состоялась «горячая линия» по вопросам предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости. На вопросы граждан отвечала начальник отдела подготовки сведений Ирина Симоненко.
В большинстве случаев возможностью получить бесплатную консультацию воспользовались профессиональные участники рынка недвижимости – кадастровые инженеры. Дозвонившихся интересовал вопрос о возможности получения сведений контактных данных правообладателя. Эти сведения необходимы кадастровым инженерам при подготовке документов. Однако, Кадастровая палата напоминает, что информация о контактных данных относится к сведениям ограниченного доступа, и может быть представлена только лицам, установленным действующим законодательством.
Также обратившиеся на «горячую линию» интересовались порядком получения сведений ЕГРН в виде выписки о границе между субъектами Российской Федерации, границе муниципального образования и границе населенного пункта. Для того, чтобы получить подобные сведения, Кадастровая палата рекомендует представить запрос в орган регистрации прав через любой МФЦ региона. Сведения предоставляются как в бумажном, так и в электронном виде. При этом, получение сведений в электронной форме стоит дешевле, чем на бумажном носителе
Отметим, что несколько вопросов касались работы сервисов официального сайта Росреестра, в частности сервиса «Запрос посредством доступа к ФГИС ЕГРН». Поскольку подобные вопросы находятся вне компетенции учреждения, Кадастровая палата рекомендует обратиться в техническую поддержку сайта по телефону: 8-800-100-34-34 или через раздел «Помощь и поддержка» (https://rosreestr.ru/wps/portal/cc_faq_query).
Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области